|
|
|
Путешествие
Григорий Ревзин
Забег вдоль стены
XIII-MMV - 27.03.2005


Москва, Ленинские
горы, 2-й гуманитарный
корпус Московского
университета, деталь
Потсдам, здание
студенческого
общежития, деталь
С точки зрения реального человека, который оказывается объектом усилий по ускорению прогресса,
различия между теми, кто способны уничтожить для
ускорения прогресса миллионы граждан, и теми,
кто не считают это возможным, оказывается весьма
существенными. Но с точки зрения строительства
эта разница исчезает. И та и другая система основана на идее прогресса, и та и другая отождествляют
научно-технический прогресс и прогресс социальный,
и та и другая полагают, что роль государства заключается в ускорении прогресса. Модернизм, который
заявляет, что суть его – это движение в направлении
лучшего будущего с опорой на новые технологии, идеально репрезентирует обе идеологии.
Уже через десять лет после старта, в начале
60-х, необходимость растождествления с тоталитаризмом пропадает у архитекторов и восточного,
и западного блока. Реальный противник в виде классического наследия полностью исчезает, модернизм
не имеет никаких альтернатив. И эта победа является серьезной проблемой для него – прогресс не от
чего отсчитывать. Сама унаследованная модернизмом
поэтика авангарда в огромной степени подпитывалась энергией противостояния прошлому: чем сильнее
отрицаешь прошлое, тем дальше прыгнул в сторону
прогресса. Но как быть, если отрицать уже нечего?
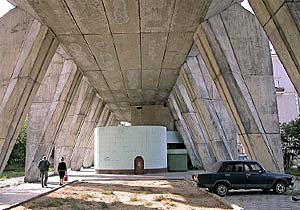
А.Меерсон и др.
Москва, улица Беговая, экспериментальный жилой дом. Пространство
под домом

Ле Корбюзье
Западный Берлин, район Шарлоттенбург. Жилая
единица. Пространство под домом
И вот тут вступает в силу конкуренция двух
идеологий. Каждая из них полагает свой путь к
прогрессу истинным, а другой – ложным. Каждая
отрицает другую. Каждая, отрицая, внимательно
смотрит на противника, стремясь превзойти его
достижения. История архитектуры Москвы/Берлина
становится забегом вдоль стены в сторону прогресса
с постоянной сверкой пройденных промежуточных дистанций. Простые формы технологической
геометрии вбирают в себя колоссальное политическое содержание, они становятся репрезентацией
двух альтернативных движений человечества к
прогрессу. Каждая из систем, соревнуясь с другой,
подчеркивала свои ценности. Коммунизм – масштаб и плановость, либерализм – творческую свободу.
СССР выстроил больше одинаковых домов, на Западе
они были разнообразнее. Время от времени они менялись стратегиями, в Западном Берлине строились
целые типовые кварталы, Восточный блок, напротив,
вдруг позволял некоторый индивидуализм концепций, и творческие почерки Леонида Павлова, Андрея
Меерсона, Игоря Виноградского более или менее различаются между собой. Но вот парадокс.
Имена и творческие свершения архитекторов
авангарда остались в истории. Мельников и Корбюзье, Татлин и Гропиус – это глубоко индивидуальные
творческие концепции, перевернувшие представления мира об архитектуре, и фактически они
полностью перекрывают собой наши представления
об основной массе архитектуры первой половины
века. Со второй половиной – все иначе. Индивидуальные концепции едва заметно просматриваются
в общей массе строительства, произведения Ханса
Шаруна, Эгона Айерманна, Фритца Борнеманна при
всей их заметности не могут сравниться с теми едва
что не бумажными проектами, которые нам оставил
авангард первой половины века.

Москва, район Бибирево, типовые дома

Юрген Заваде, Дитер Фровайн и др.
Западный Берлин, район Шонеберг, жилой дом у Кляйстпарка
(«Социалпаласт»)
Дело, как мне кажется, в специфическом
статусе той творческой свободы, которую получает архитектор в рамках модернистской системы.
Эта свобода – лишь аргумент в соревновании двух
систем. Не архитектор создает нечто непредсказуемое
и новое, а либеральный проект демонстрирует коммунистическому свое преимущество – предоставленную
архитектору творческую свободу. Это предсказуемый
жест свободы, и когда человека зовут для того, чтобы
он показал, как он свободен, свобода принадлежит
не ему, а тому, кто его позвал. В художественном пространстве архитектор – первое лицо по определению,
в политико-экономическом – никогда.
Сама эта свобода заметна только на фоне того
диктата, который существует в противоположном
лагере. Когда рассматриваешь экспериментальный
квартал Ханзафиртель, выставку достижений жилой
архитектуры, проведенную в Берлине ровно в тот
момент, когда в Москве начали эксперимент Новых
Черемушек, то испытываешь жесточайшее разочарование. Алвар Аалто, Оскар Нимейер, Вальтер
Гропиус – какие имена! И это пиршество архитектурных форм больше всего напоминает типовые
московские пяти-, девяти-, двенадцатиэтажки, и,
в сущности, наши даже честнее, потому что не пытаются изображать на типовых панелях узоры
творческой свободы. Их раскрепощенность заметна
только на фоне отсутствия ее же у нас, нам будто
говорят – смотрите, мы делаем то же самое, но при
этом сохраняем либеральные ценности. Аргумент
в споре двух систем превосходен. Жест в истории
искусства – мизерабелен.
Если сегодня спросить себя, что же является
самым значимым сооружением этого периода, то,
разумеется, это сама Стена. Именно ее L-образные
блоки оказываются тем минималистским носителем, на который в самом концентрированном виде
проецируются результаты соревнования двух систем.
Именно она собирает тот максимум политического
содержания, который оказывается содержанием
архитектуры за 50 лет в целом. Именно она оказывается центральным произведением модернизма второй
половины века.
Стена пала, и тот колоссальный груз политического содержания, который нес на себе модернизм,
исчез вместе с ней. Вместе с этим исчезновением
из архитектуры ушло содержание, и именно поэтому
облики обоих городов оказались лишенными ясности
и смысла. Сама вера в прогресс, отождествление прогресса научно-технического с социальным оказались
под вопросом, и вовсе не в рухнувшем соцлагере,
а в либеральной системе. Архитекторы, пожалуй,
единственные, кто продолжает в него верить. Архитектуре предстоит найти новое содержание и новый
смысл. Но пока она его не нашла.
<<вернуться
|
 |
|