|
|
|
Исторический очерк
Дмитрий Швидковский
Осуществленная утопия Александра I
III-MMII - 03.02.2002
Мощным воздействием этого сооружения,
самого большого в Европе эпохи
Просвещения и единственного, где
в полном масштабе реализовались
замыслы французских архитекторов-мегаломанов,
для великого князя
была уничтожена сама возможность
выбора какого-то другого варианта
устроения жизненной среды.
Это показывает едва ли не вся архитектура времени его царствования.
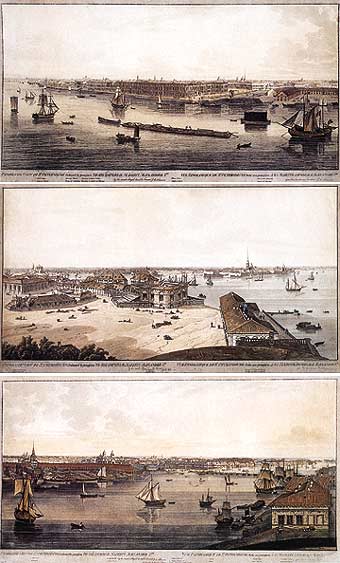
Так выглядел центр Петербурга в самом начале
царствования Александра.
Биржа только
строится, Адмиралтейство старое.
Листы
панорамы Аткинсона.1805-1807
В письмах Екатерины II прорывалась правда о том,
что она думала
на самом деле не о великом князе,
а о собственной реинкарнации, при
которой ее мысли, «как Феникс»,
восстанут из пепла и создадут новую
жизнь. Во многом ей это удалось.
В странном характере и неожиданных поступках Александра,
в рази-
тельном отличии его действий и слов,
что казалось современникам лицемерием и неискренностью,
на самом
деле выражалась непрестанная
борьба естественных реакций с
воспитанным автоматизмом. Император как бы оказывался одним из тех
оживших «автоматов», которые
любили создавать в своих произведениях писатели позднего Просвещения и начала Романтизма.
Он жил в
романтическую эпоху, но должен был
претворять в жизнь идеи просвети-
тельского порядка. Собственно в
этом, как кажется, и заключены
главные особенности его эпохи,
в том числе и архитектуры
александровского времени.
Недолгое и случайное, состоявшееся против воли Екатерины II,
царствование его отца Павла I
абсурдностью многих своих событий
только укрепило в Александре
мысли, заложенные при воспитании
(в котором, как известно, не участвовали родители великого князя).Едва
Павел I был убит и его сын произнес
наутро после осуществления заговора
знаменитые слова, что при нем все
будет, «как при бабушке», в архитектуре России началось воплощение
постпросветительской утопии – того,
что не успел завершить XVIII век.
 |
Адмиралтейство Захарова |
Горный институт Воронихина |
То, что зодчим эпохи Просвещения,
прежде всего французам, соревновавшимся ради получения «Римских
премий», дававшим возможность
долгого пребывания в Италии,
казалось лишь мечтой, возможной
только на бумаге их величественных
и рациональных проектов,– все это
стало реальностью в Петербурге.
В начале ушедшего века историками архитектуры говорилось,
что
«ранний александровский классицизм» возник под влиянием великого
архитектора французского Просвещения Клода-Николя Леду.
Но на
самом деле мотивы, близкие этому
мастеру, применялись в России
начала XIX века редко. Недоразумение произошло из-за того,
что
проекты Леду были опубликованы
очень поздно, в 1804 году. Причем
автор посвятил свою книгу Александру I, демонстрируя свои монархические убеждения,
из-за которых он
подвергся долгому тюремному
заключению во время Французской
революции. Архитектура Леду,
особенно построенный им идеальный
город Шо, была осуществлением
утопических представлений о жизненной среде,
характерных для
французского Просвещения 1770-х
годов.

Ростральные колонны Тома де Томона.
Петербург к концу царствования Александра
преобразился, он стал монументально - классическим. Утопия воплотилась
В России же при создании
стиля в начале XIX века обратились
к другим, созданным иными мастера-
ми,неосуществленным, обращенным
к будущему проектам парижской
Академии архитектуры.
В первую очередь это были
конкурсные проекты «Римских
премий» конца XVIII века, издававшиеся в первые годы XIX столетия.
Достаточно самого знаменитого
примера такого влияния – Биржа
в Петербурге, построенная
Ж.-Ф.Тома де Томоном, свидетельствует об использовании им опубликованного проекта биржи П.Бернара.
Много других работ Томона говорят
о том, что он применял «язык»
архитектуры «Римских премий».
Ученик Ж.-Ф.-Т.Шальгрена, один
из главных создателей александровского классицизма А.Д.Захаров
исходил из близкого круга художественных предпочтений.
Правда,
следует согласиться с И.Э.Грабарем
в том, что если «Томон перенес эти
принципы из Франции целиком,
совершенно в том виде, в котором они
были там культивированы», то Захаров «сумел вдохнуть в них новую
жизнь, и его искусство есть продолжение и завершение французского».
В Петербурге первых лет царствования Александра I при решительном
одобрении императора архитектура
европейского Просвещения договаривала невысказанные в годы Французской революции смыслы.
<<вернуться  далее>> далее>>
|
 |
|

